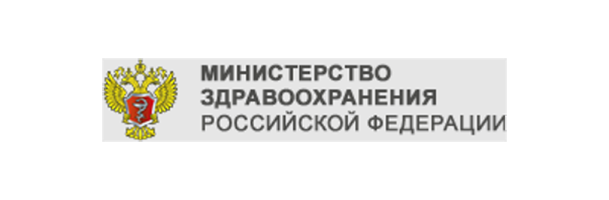12 июля 2025
Вы здесь
Аллергия на жизнь
Правила игры социума прихотливы и непредсказуемы. Здесь нет никаких раз и навсегда установленных законов и догм, несмотря на регулярные прекраснодушные декларации о «правах человека» и пр. Двойные стандарты и фарисейское двуличие ярко характеризуют ход всей истории человечества. Клятвопреступления и братоубийства, предательства и мятежи регулярно обретают в истории интерпретацию «исторической необходимости», «эпохальной революции» и т.п. («Мятеж не может кончиться удачей – в противном случае его зовут иначе…»). Произнесенные слова обретают вероятностную многозначность, смысловую неопределенность и необязательность условности, утрачивая при этом прежнее содержание. Человек всё в большей мере отчуждается от общества, каноны которого вовсе не универсальны и – тем более – не постоянны, в силу чего не могут быть ориентиром бытия и символом незыблемости. Возникает два несливающихся потока: жизни социальной и жизни приватной, которые могут пересекаться чрезвычайно редко, и эти пересечения зачастую носят формальный характер выхолощенного ритуала-привычки.
«Неправильные пчелы»
Но и в частной жизни концептуальное двуличие общественных норм дает о себе знать. В обществе важно не быть и даже не казаться, а – выглядеть («на миллион долларов»). Важнее меркантильная успешность, нежели личностная аутентичность. В диаде Э.Фромма «Быть и иметь» безусловное преимущество получила вторая половина. Окружающие человека предметы становятся презентацией его личности. Поэтому приоритеты педагогики и воспитания в обществе ориентированы, прежде всего, на финансовое благополучие, возведенное в абсолют. Поэтому воспитание детей в таком обществе подчинено (в том числе) – умению носить социальные маски («Smile!», «I am OK» и пр.) Поэтому ребенок, еще не привыкший к этому двусмысленному лукавому миру, оказывается в недоумении непонимания – отчего мама делает ему замечания с улыбкой на устах: ее эмоция не коррелирует с мимикой. Двойственность и противоречие сквозят в таком укладе. И всё это служит социальным тренингом для жизни в обществе, приверженном двойным стандартам. Но вовсе не всем хорошо даются такие уроки.
Во взрослой жизни черный и белый цвета слиты почти нераздельно. Целостность бытия понятна и очевидна взрослому человеку, прошедшему горнило тренинга детства, прочно сплавившему эти краски, когда ему, ребенку, пришлось научиться понимать и различать двусмысленность, неочевидность, отсутствие контрастных плакатных красок и сказочных сюжетов, в которых предельно ясно – где добро, а где зло. Но вначале для ребенка соединение этих контрастных красок является проблематичным. В его психике баррикада между добром и злом зиждется достаточно устойчиво и определенно; ему невдомек, каким образом рождаются формулировки типа: «Это, конечно, сукин сын, но это наш сукин сын». Ребенок живет в утопически-справедливом мире, где «сукин сын» навсегда остается таковым, без всяких оговорок.
Полосатая черно-желтая пчела производит сладкий мед, но она и больно жалит. И до какого-то возраста бывает сложно понять, каким образом всё это совмещается в одном и том же мелком насекомом. Пчела – символ самой жизни, имеющей разные аспекты, но холистически (и – в каком-то смысле – противоречиво) объединяющей в себе добро и зло, сладость и боль… Но еще Винни-Пух заметил, что «это – неправильные пчелы». (Это и есть психология ребенка, понимающего простую вещь: «добро с кулаками» перестает быть самим собой).
И раскраска пчелы тоже символично полосата: черная – ночная полоска сменятся желтой – солнечной. Но даже и мед, который производит пчела, часто становится для человека аллергеном, замыкая круг единой схемы. Да к тому же пчела так похожа на осу, от которой – вполне в стилистике этого неопределенного социума размытых дефиниций – вовсе не приходится ждать ничего хорошего. Неоднозначность этого мира не имеет предела. Смыслы и определенность завуалированы в максимальной степени.
Слова полосатого общества теряют определенность, переставая быть привычными символами привычных понятий, теряя таким образом функцию коммуникации, дающей возможность адекватного взаимопонимания. Недоговоренность, намеки, фигуры умолчания и прочее становятся туманом, в котором непросто найти определенный смысл и увидеть ориентир верстового столба. И поиски истинного смысла заставляют искать содержание – между строк, внутри интонаций, в жестах и недомолвках (и оговорках: фрейдовский психоанализ вовсе не случайно появился в конце XIX века – в период расцвета капиталистического уклада).
Запутавшись в мире
В трудном плавании по морю социума не оказалось этического компаса. Если прежде Время и Пространство могли структурировать веру в Бога и религию, то теперь они отошли в разряд формальных процедур-ритуалов («…бэконовская философия в своем развитии ведет не к вере, а к внешности веры, к некоторому видимому признанию, за которым или тем надежнее себя чувствует собственное превосходство, или же скрывается холодное равнодушие», – написал историк философии К.Фишер еще в середине XIX века и не в состоянии более удерживать каркас социума в устойчивости.
Запутавшись в мире, где слова расходятся с эмоцией и поступком; где говорится одно, подразумевается другое, а совершается третье; где решение определяется прагматичностью контекста, а не реальной ситуацией текста; где поговорка «Не в силе Бог, а в правде» почти потеряла смысл, потому что в социуме, исповедующем меркантилизм и прагматизм, правда как некая идеалистическая конструкция становится неуместной и нецелесообразной, по-детски утопичной; а, стало быть, и Бог оказывается не у дел; человек может двинуться несколькими путями. Большинство всё же худо-бедно приспосабливается к этому миру, где «Боливар не вынесет двоих», хотя такой поступок и предосудителен, но он регулярно реализуется на практике, не вызывая культурного шока у «почтеннейшей публики». Меньшинство дистанцируется от такого миропорядка, сведя взаимодействие с обществом до необходимого, но неизбежного минимума. Крайним вариантом второго пути порой становится аутизм психического расстройства, позволяющий человеку «завернуться в шелк собственной души», по выражению шведского писателя А.Стриндберга; изолировать себя от этого мира, в котором всё так непостоянно, неопределенно, двусмысленно и нечестно. Где нет всех этих прихотливо меняющих свой смысл символов, могущих обозначать что угодно (в прямом и переносном мыслах этого выражения). Где нет никаких двусмысленных ос, а пчелы не жалят, ограничиваясь исключительно производством меда. И это – утопический мир бредовой системы, герметично замкнутой от «неправильных пчел». Здесь можно менять условия самому и не зависеть от непредсказуемых и двусмысленных прихотей общества.
Неоднозначность содержания слов и смыслов словно подталкивает субъекта к тому, чтобы он и сам вел себя аналогичным образом, произвольно меняя дефиниции и прихотливо трактуя постулаты. Однако индивидуальные экзерсисы такого рода ведут к тому, что мышление человека, ступившего на этот путь, трактуется, как патологически измененное: его персональная семиотическая система оказывается неясной ни для кого, кроме него самого, да и то не навсегда. Изменения смыслов могут происходить только в одном направлении и детерминируются лишь обществом, но не самим субъектом. Попытка предложить индивидуальную трактовку определяется утилитарностью выгодного предложения, в противном случае попытка эта определяется как отклонение от психической нормы.
Важным признаком шизофрении является то, что мышление при этой болезни становится непоследовательным, характеризуясь такими симптомами, как соскальзывание, символизм, паралогия, резонерство… Но иногда создается впечатление о том, что все эти симптомы – не что иное, как попытка больного человека приспособиться к тому непоследовательному обществу, которое само крайне произвольно меняет условия социальных игр: начав партию в преферанс, оно внезапно переходит на подкидного дурака. Неправильно поняв суть игры, предположив, что она состоит в том, чтобы непрерывно менять правила, пациент старается соответствовать этой неупорядоченности, предлагая собственные версии хаоса. Социум меняет свои правила в зависимости от ситуации – непрерывно идет процесс пермиссивности (детабуизации) прежних догм и канонов. Но коль скоро социум поступает таким образом, то отчего бы нельзя было произвольно менять смыслы, допуская многозначность и прихотливую траекторию индивидуального мышления, ведь в этом случае субъект играет по тем же правилам, то есть исходит из собственной трактовки ситуации в ключе своего персонального прагматизма? Но установленных правил нет (если это не продиктовано интересами заинтересованной и обладающей некоторыми полномочиями группы лиц, выдающей себя за социум). И психически больной человек оказывается нелеп и непонятен в своих неологизмах и паралогиях; он всё время, говоря невпопад, оказывается вне общего контента; и его голос неизменно звучит диссонансом по отношению к тому мнению, которое принято считать мнением «демократического сообщества».
Если большинство людей в процессе социализации всё же как-то обучается взаимодействовать с этим двуличным миром, то у пациентов психиатрических клиник это получается не слишком хорошо. Пермиссивное общество ломает каркас устоев, плодя всё больше и больше шизофреников, не справившихся с полосатой пчелой реальной жизни. Укус этой пчелы вызывает боль и аллергию, заставляющие пациента избегать общения с такой пчелой, дабы избежать новых укусов.
«Я стану шведским Рембрандтом или умру!»
Эрнст Абрахам Юсефсон родился в еврейской семье, переселившейся в Швецию из Германии в конце ХVIII века и давшей шведской культуре немало заметных имен (композитор и дирижер Якоб Аксель; актер, режиссер, драматург Людвиг Оскар Йозефсоны – родные братья его отца). Получил образование в Стокгольмской академии художеств, куда поступил в 16-летнем возрасте. С 1879 по 1886 г. жил и работал в Париже, где оказался под сильным эстетическим влиянием импрессионистов. В этот период времени писал преимущественно портреты, интерьеры шведских замков и пейзажи, в которых за внешним радостным настроением чувствуется грусть и внутренний конфликт, вызванный ностальгией по детству и трагической любовной коллизией. В дальнейшем перешел к символическому искусству, носившему оттенок романтизма.
С 1888 г. страдал шизофренией (которая тогда называлась dementia praecox), что радикально повлияло на его искусство. Дебют психопатологии у Юсефсона обычно соотносят с его увлечением спиритизмом, в процессе занятий которым у него появились галлюцинации религиозного содержания: он посчитал себя Иисусом Христом, призванным искупить грехи человечества. Религиозный бред – весьма частое явление в обществе, сводящем Бога к формальности ритуала и выхолощенной процедуре обряда. Если «Бога нет», то в социуме появляются люди, которые «берут на себя» его функции. Психически больные восполняют дефицит той части единой психики человечества, о которой говорил К.Г.Юнг и которая относится к сфере бессознательного. Архетип должен быть сохранен.
Гротескно-фантастические композиции последнего творческого периода Э.Юсефсона, «…на которых спокойно, неэкстатично запечатлено волшебное, демоническое содержание, не имеющее определенной формы» (К.Ясперс), не обладали практически никакой преемственностью в отношении его прежних работ: между расцветом и закатом в искусстве шведского мастера существует лакуна, никак не объясняющая эволюции художника; словно он перескочил из одного времени в другое, миновав несколько десятилетий за несколько часов, предвосхитив несколько направлений в живописи ХХ века – экспрессионизм, фовизм, модернизм, примитивизм… Юсефсон попробовал заговорить с миром на ином языке, установить свои персональные эстетические каноны, но в глазах социума они оказались преждевременными, и этот художественный язык не встроился тогда во всеобщую семиотическую систему. В начале ХХ века о работах Юсефсона, сделанных им в психотический период, художественные критики писали, что эти полотна «…не могут считаться произведениями искусства в обычном смысле этого слова, в них что-то разбито, что-то смещено, происхождение их форм и пропорций следует искать в ослабевшем рассудке; тем не менее, они несут на себе отпечаток исключительно богатой фантазии, душевной полноты постижения и взгляда, тонко чувствующего декоративность».
С тех пор многое изменилось, и произведения Юсефсона, как ранние, так и поздние, интересны, хотя и очень разным людям, но одинаково сильно. И памятник художнику, поставленный в городском парке Стокгольма, – свидетельство признания и благодарности шведов этому мастеру за его искусство. «Я стану шведским Рембрандтом или умру!» – как-то воскликнул Юсефсон. Он не стал «шведским Рембрандтом» и умер. Его амбициям не суждено было реализоваться, но то, что успел и сумел сделать этот живописец, осталось в искусстве не только Швеции, но и Европы.
Семиотическая система психически больного человека в очередной раз опередила время, став тем ориентиром на художественную перспективу, которую интуитивно предощущал шведский мастер. Но во времени, синхронном реальной жизни Юсефсона, этот язык стал критерием диагностики, так и не превратившись в эстетическую категорию.
Э.А.Юсефсон писал не только картины, но и стихи. Он издал два поэтических сборника – «Черная роза» (1888) и «Желтая роза» (1896), сочиненных им уже после манифеста шизофрении. Полосатая пчела позволила ему собрать последний взяток с цветов, так и не сведенных его психикой в единую конструкцию, несмотря на все старания психиатров-селекционеров. Розы остались автономными, не соединившись в букете и не превратившись в полосатую и внутренне противоречивую, но целостную («неправильную») черно-желтую розу.
Игорь ЯКУШЕВ,
доцент Северного государственного
медицинского университета.
Архангельск.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Издательский отдел: +7 (495) 608-85-44 Реклама: +7 (495) 608-85-44,
E-mail: mg-podpiska@mail.ru Е-mail rekmedic@mgzt.ru
Отдел информации Справки: 8 (495) 608-86-95
E-mail: inform@mgzt.ru E-mail: mggazeta@mgzt.ru