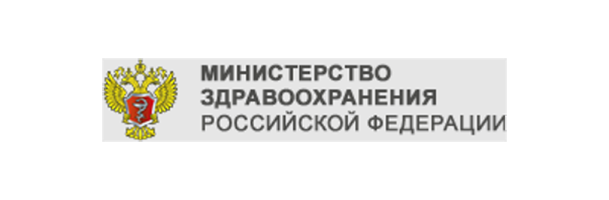19 августа 2025
Вы здесь
Эгида Эдема
В письме родственникам из тюрьмы в 1937 г. П.А.Флоренский написал удивительные строки: «Удел величия – страдание – страдание от внешнего мира и страдание внутреннее, от себя самого. Так было, так есть и так будет. Почему это так – вполне ясно; это отставание по фазе: общества от величия и себя самого от собственного величия… Ясно, свет устроен так, что давать миру можно не иначе, как расплачиваясь за это страданиями и гонением. Чем бескорыстнее дар, тем жёстче гонение и тем суровее страдания». Эти слова могут быть девизом жизни и конспектом судьбы Винсента Ван Гога.
Самоубитый обществом
Социум был безжалостен к этому художнику. Вовсе не случайно книга А.Арто называется «Ван Гог, самоубитый обществом». На долю этого художника выпали предательство и голод, отсутствие подлинного домашнего уюта и признания со стороны современников, настоящего душевного семейного тепла и сочувствия со стороны единомышленников, несчастная любовь и тяжёлая болезнь, бытовая неустроенность и беспросветное одиночество, бедность и социальный остракизм. Мир не понимал и не принимал этого мастера, пока тот был жив. Часто лишь младший брат Винсента Ван Гога был единственным, причём заочным – эпистолярным – его собеседником. Окружающие считали художника ненормальным, безумным, сумасшедшим. (Надо сказать, что этот диагноз был поставлен обывателями раньше, чем профессионалами.) Люди почти открыто потешались над ним – до тех пор, пока он не отрезал собственное ухо. После этого они откровенно начали его бояться. Но, всё равно, обыватели неизменно крутили пальцем у виска за спиной проходящего мимо мастера – вечно перепачканного красками, бедно одетого, в стоптанных башмаках и сгибающегося под тяжёлым этюдником и ящиком с тюбиками красок (а тюбики эти, между прочим, были свинцовыми).
Художнику было трудно, словно он пытался говорить на другом языке. Так оно, в сущности, и было. Из писем Ван Гога становится ясно, что ему были интересны, главным образом, живопись и графика, искусство и литература, Диккенс и Шекспир, Писсарро и Делакруа. Тематика бытовых подробностей жизни городка, цены на продукты в лавочке папаши Матье, сплетни о наследстве соседей и аморальное поведение соседской дочери (вся эта тематика коммуналок подробно и ярко описана французскими литераторами середины ХIX века – Э.Золя, Г.Флобером, Г. де Мопассаном…) никогда не была предметом внимания мастера. Его мысли занимало искусство, для которого он жил и при помощи которого решал свои задачи. И задачи эти были неимоверны по сложности, однако планку он ставил себе сам, не желая убавлять её высоту, ибо играл не в безик по маленькой с соседями-обывателями, а хотел понять значительно более высокий смысл бытия, уловить в сиюминутной жизни людей, предметов и ландшафтов – необнаруженную прежде красоту и целесообразность всего сущего. Но эти темы мало кого занимали и почти никого не интересовали более двух минут кряду.
«…Люди в абсолютной истине и не нуждаются, и проживут без неё удобнее: большинство чувствует себя уютно, когда нет в мысли чётких углов и граней, и бывают довольны, если внешние обстоятельства позволяют не вспоминать о них», – это снова словно комментирует обстоятельства жизни Винсента Ван Гога П.А.Флоренский. Да и критерии восприятия искусства были слишком различны. Оказывалось, что художник говорит на том языке, смысл которого не слишком-то ясен его соседу за столиком в кафе. Может быть, именно поэтому мастер чаще всего оказывался в одиночестве даже за этим столиком.
«Надо жить с людьми чужими,
Только сам себе я свой,
И, доколе я живой,
Надо жить с людьми чужими…» (Ф.К.Сологуб)
С одной стороны, Ван Гог почти всё время стремился к контакту с людьми, которых он любил и жалел, общения с которыми ему так не хватало; с другой – он отталкивал окружающих: своей требовательностью, конфликтностью и почти полной невозможностью компромисса. Ему мешала статичность собственных схем, в которых другим людям отводилось исключительно то место, которое им предназначил сам художник. Он выстраивал на песке умозрительные утопические иллюзорные конструкции, радовался их возможному осуществлению, почти мгновенно сооружал над первоначальной идеей сложную надстройку дальнейших оптимистических перспектив развития творческих и человеческих отношений, испытывал неподдельный восторг по поводу их прекрасной гармоничности, верил в реальность их осуществления, а потом гневался и горевал в связи с тем, что реалии не совпадали (и не могли совпадать) с ними (так, в частности, складывались его взаимоотношения с Гогеном). Социум регулярно давал Ван Гогу тяжёлые оплеухи. Не научившись толком взаимодействовать с обществом и адекватно понимать его двусмысленную двуличную ментальность, а оттого отчасти воспринимая этот социум весьма идеалистически и прекраснодушно, художник мечтал об этическом и эстетическом совершенстве братского альянса живописцев-единомышленников, почти мгновенно раздражаясь по поводу тех, кто был не согласен с его концепцией оттого, что лучше, нежели Ван Гог представлял себе реалии жизни, не разделяя его идиллических настроений. А с буржуа-обывателями ему просто не о чем было говорить. Его искусство ещё могло бы стать смысловым посредником-коммуникатором, будь оно олеографически гладким и стандартно привычным, близким по эстетике уровню обывателя. Но буржуа – любители Э.Месонье и Ж.Энгра – шарахались от полотен Ван Гога. Даже импрессионисты во французской провинции конца ХIХ века казались и считались едва ли не порнографами или пачкунами. Художественные задачи, решаемые Ван Гогом, не имели близкой перспективы стать предметом интересов окружающих.
Поэтому в итоге мастер предпочёл одиночество, внутри которого по крайней мере мог оставаться самим собой, не подделываясь под никчёмную болтовню или пустопорожнее веселье в полуночном кафе. В самом деле: могли ли обыватели приблизиться к мышлению человека, который находясь в психиатрической больнице, писал брату: «…я хотел видеть более сильное солнце, так как чувствовал, что, не зная его, я не мог бы понять технику Делакруа и видел бы только, как северные туманы застилают цвета призмы».
Но его серьёзная проблема была в том, что социум сам весьма активно внедрялся в его жизнь, не оставляя художника в покое, постоянно «заглядывая через плечо», суясь не в своё дело, комментируя непонятые им картины и о-очень странное для него поведение мастера. Социум был сначала враждебно нейтрален, а потом и просто враждебен. Художника боялись. Безумцев часто боятся люди здравомыслящие и прагматично утилитарные (См. прозу Флобера – Мопассана – Золя).
Свой мир художника
И совсем неудивительно, что, попав в психиатрическую лечебницу, Ван Гог довольно быстро почувствовал себя лучше. Здесь не было этого сверлящего указательным пальцем собственный висок (за спиной проходящего художника: так безопаснее) хихикающего обывателя. Никому здесь ни до кого не было никакого дела. По двору лечебницы ходили монахини (помимо того, что это здание было больницей, прежде – с ХII века – оно являлось августинианским монастырём), пациенты, служители и редкие посетители. Каждый из пациентов мог заниматься, чем ему было угодно, при условии, что эти занятия не будут иметь деструктивных последствий. Странно ли, что художник рисовал парк вокруг лечебницы, как вдруг обретённый им райский сад, находя для этого совсем не мрачные краски и обходясь без трагизма и даже драматизма. Просто деревья. Просто люди. Просто здания. Просто ограда. Может быть, впервые в жизни ему никто не мешал, не стоял за его спиной (от учителя рисования до зеваки, остановившегося поглядеть, чего это там такое намалёвано…) и не издевался над тем, что краски-де ложатся слишком густо и не соответствуют цветам натуры. Но подлинный художник – не копиист природы, что немного позже убедительно доказала фотография и те аппараты-мыльницы, которые позволяют любому дилетанту клонировать зелёные ландшафты, розовые восходы и малиновые закаты. Настоящий мастер – лишь тот, кто в состоянии увидеть свой мир и сделать его интересным для других.
Совсем не случайно художник ежедневно уходил подальше от людей – туда, где гарантированно не было бы досужих прохожих. Они надоели ему. Даже в их молчании чувствовался тот назидательный тон, который так хорошо был ему знаком. (Если отец – пастор, сын поневоле обречён на бесконечные проповеди). И писал он тогда почти исключительно свободные от людей ландшафты, которые были пусты, как и Эдем Адама, в котором ещё не было посторонних.
В лечебнице каждый был занят своим делом и погружён в себя, изредка и ненадолго прерываясь на неутомительные медицинские процедуры, еду и сон. Едва ли не впервые никто не мешал Ван Гогу, не обращал внимания на его деятельность. Продуктивность художника в течение этого периода времени просто потрясает. Но если бы не названия полотен, зритель едва ли мог догадаться о том, что их автор – пациент психиатрической больницы и рисует именно её интерьеры и окрестные пейзажи. Эти картины он написал вскоре после того, как закончил трагичное полотно «Ночное кафе в Арле», где красно-жёлто-зелёная гамма цветов мгновенно вызывает неизбежное ощущение беспокойства и тревоги, а пастозный мазок кисти на полу кафе и сукне бильярдного стола, так агрессивно вспахивает поверхность холста, что, кажется, вот-вот прорвёт его. Тревога автора, доходящая до ажитации, ощущается почти физически…
И после этого – райский сад, элегия безмятежной прогулки, умиротворение садово-парковой зелени, нежные ирисы, идиллические скамейки… Покой и кротость царят в этих работах. Ван Гог – после многих лет лишений и тревог – наконец-то обрёл кров, под которым ему гарантированы возможность заниматься живописью, еда и – отсутствие враждебного интереса к его картинам. Социум остался за оградой этого Эдема.
Ведь художнику, прежде всего, важно реализовать самого себя, понять что-то необходимое, преодолеть тот подобный недосягаемому горизонту разрыв между величием собственного замысла и – невозможностью воплотить его так, как представляется внутреннему взору. Лечебница в Сен-Реми стала для Ван Гога лабораторией, после которой его искусство поднялось на новый уровень. Ограда этой клиники охраняла художника от досужих и любопытных глаз и пересудов. Городской сумасшедший неизбежно становится темой для вечернего разговора за столиком кафе или домашним столом. Но если этот сумасшедший находится в больнице, то о нём постепенно забывают.
Достаточно сравнить автопортреты художника до госпитализации и больничного периода. Взгляд затравленного больного человека сменяется внимательным взглядом художника, вернувшегося к решению своих задач. Достаточно сопоставить «Ночное кафе в Арле» (сентябрь 1888 г. ) и «Звёздную ночь» (июнь 1889 г.), чтобы увидеть в них соответственно – иллюстрации к тревожному смятению и озарению постижения смысла бытия. Ван Гог ощутил над собой звёздное небо, прежде закрытое низким потолком бильярдного зала.
«Всё во мне, и я во всём!..» – так написал об этом ощущении Ф.И.Тютчев. Тайна и величие звёздного неба над головой открылись Ван Гогу, которого не отвлекала «жизни мышья беготня»… «Нравственный закон внутри» человека открывался Ван Гогу через «звёздное небо над его головой», предполагая версию о том, что оба этих аспекта если и не тождественны друг другу, то по крайней мере близки и соизмеримы в общей системе ценностей.
Конечно, и в больнице у художника случались обострения патологического процесса – на то и прогредиентность его заболевания, которая свойственна этому диагнозу. Но знаменательно то, что обострения вне больницы случались у Ван Гога, во-первых, регулярно, а во-вторых, почти мгновенно после того, как он оказывался вне стен лечебницы и её спасительной ограды, имевшей весьма символичную высоту и иллюзорную неприступность. Но даже этих неотчётливых кирпичиков было достаточно для достижения эффекта милиотерапии, который заключается в целительном влиянии благотворной среды на психику человека, когда даже обстановка клиники и сами её стены начинают лечить пациента.
Терапия средой, в этом случае состоявшая и в ограничении социальных контактов, стала для Ван Гога не менее эффективной, чем лекарственная терапия. Внутри ограды психиатрической лечебницы он мог позволить себе быть самим собой, не оглядываясь на социальные требования к «респектабельности» одежд и тематике разговоров. Освобождённый от необходимости соблюдать стандарты общества, которые стали для него почти невыносимой проблемой, мастер смог сосредоточиться на искусстве. Нестандартный человек, зажатый в прокрустово ложе социальных условностей, обречён на то, чтобы тратить важную часть сил для того, чтобы этот стандарт соблюсти. Такого ресурса у Ван Гога не было.
Его обострения, случавшиеся уже после госпитализаций (между ними), почти неизменно происходили в связи с очередным столкновением с реальностью – всеми этими бытовыми осложнениями, которые нарушали субтильное равновесие саморегуляции психики мастера, с таким трудом достигаемое в условиях клиники.
«…но ирисы остались…» (Б.Ахмадулина).
Игорь ЯКУШЕВ,
доцент Северного государственного
медицинского университета.
Архангельск.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Издательский отдел: +7 (495) 608-85-44 Реклама: +7 (495) 608-85-44,
E-mail: mg-podpiska@mail.ru Е-mail rekmedic@mgzt.ru
Отдел информации Справки: 8 (495) 608-86-95
E-mail: inform@mgzt.ru E-mail: mggazeta@mgzt.ru